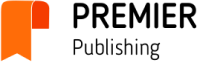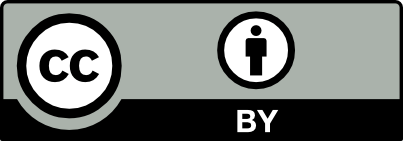РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИДЕЙ ВЛАСТИ В ИЗОБРАЖЕНИИ ПЕТРА I
Authors
Дарья Щебетовская, Булат Азнабаев

Share
Annotation
Цель: противопоставление репрезентации идеи монархической власти Петра I в европейской и русской художественных традициях и идеологических концепциях II пол. XVIII в.
Методы: сравнение, системный анализ, группировка данных, теоретическое познание, исторический метод.
Результаты: Мы пришли к выводу о том, что европейская космополитичная идея власти построена на индивидуализации и выделении образа монарха из социального окружения. В оппозиции ей стоит русская идея соборности монархии и ломоносовская убежденность в сакральной нуменозности Петра. Трактовка власти Петра I Ломоносовым в определенной степени соотносится с представлением монаршей власти М. Фуко. Представление же власти у Фальконе вполне отражает идеалы французского Просвещения.
Научная новизна: В нашей работе мы впервые сравниваем репрезентации образа власти России XVIII в. в русской и европейской традиции на примере Петра I.
Практическое значение: Результатом исследования стали разработка, изучение и апробация двух новых концепций, могущих в дальнейшем послужить основой для продолжения исследований.
В результате их разработки мы пришли выводу о сходном влиянии религиозных и атеистических аргументов легитимации власти. Это может послужить к формированию новационных способов работы с информацией не только в рамках исторической науки, но и смежных областях знаний.
Keywords
Authors
Дарья Щебетовская, Булат Азнабаев

Share
Веками тандем власти и искусства был неразрывен, визуальные средства легитимации – оптимальны для массового зрителя, они быстро внедряются в общественную мысль, часто повторяясь, становятся социальными аксиомами. Для сакрализации авторами до XVII в. использовалась преимущественно внешняя атрибутика, иконографическая художественная схема композиции, благодаря чему портрет становился самостоятельным текстом [1, 3-74]. К началу XVIII в. окончательно установившийся абсолютизм в России потребовал его утверждения в новых формах, подходящих на роль политической корреспонденции между Правителем и его народом. Ведь, исходя из источников того периода [2, 10-12], фундирование новой политической реальности было центральной идеологической задачей и власть вновь обратилась к художникам – появился госзаказ на преемственность, и он был исполнен. Для этого исследования мы выбрали два несхожих, на первый взгляд, произведения искусства 1760-70-х гг. – скульптуру Э.М. Фальконе «Медный всадник» и мозаичное панно «Полтавская баталия» М.В. Ломоносова.
Допетровская Русь в представлении Петра и его идеологов – страна с ведущей мифологемой богоустановленной праведной власти. В петровский период было создано не много произведений (тогда же ведущей идеей власти стал переход от религиозного понимания её характера к светскому и общественному («Правитель «не пастырь народу своему, но … пастух ... имеет жезл наказания и казнения») [3, 11-14]. Развивает эту мысль и Пётр в различных документах, где относительно своей и службы подданых, он употребил представление о пользе обществу и служению не просто не ему самому, но отечеству, где свои миссию он характеризует как службу родине и общему благу подданных [4, 95-117] – «все старания ... наши клонились к тому, как бы сим государством управлять таким образом, чтобы все наши подданные, попечением нашим о всеобщем благе, более и более приходили в ... благополучнейшее состояние» или «Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем ... от чего облегчён будет народ»[5]. Так среди современников старались укоренить идеи раннего просвещения и нового времени в юридической системе. Впервые власть как процесс выносился из персоны правителя и переходил к некой законодательной системе, аппарату.
Логичен и выбор объектов исследования. Вряд ли в истории России мы можем найти фигуру более сакрализируемую и неоднозначную, нежели первый император, к тому же религиозная презентация власти монарха в эти годы секуляризуется. Император не подлежал божественной апологии, от того в искусстве появляются разночтения образа Правителя, делая его привлекательным для изучения [6, 1146].
Перейдём к анализу различий наших объектов изучения. Конный монумент Петра I Э. -М. Фальконе изначально задумывался как способ возвеличивания Императора – человека, а заказывался Екатериной II для обоснования собственного права на престол путём ассоциирования с наследием Петра. Тому мы находим подтверждение тому мы находим и в письмах Фальконе к Дидро в нашем переводе – «Если бы Вы были в Санкт-Петербурге, если бы вы знали, какую цену Её Императорское Величество назначает за одобрение своей, Вы бы сказали : Екатерина увидит вашего царя и спор о потомстве будет окончен» [7, 186]. В пользу теории преемственности говорит и надпись на памятнике «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая лѣта 1782»
Мозаика Ломоносова предполагалась как «надгробие» для Петропавловского собора – усыпальницы Петра. От того в оригинале панно венчало изображение апостола Павла с пером, благословляющего ход сражение. Тут прослеживается текст божественной сущности власти – интенция характерная, скорее до рубежа XVII-XVIII вв. В пользу этой же версии говорит и надпись из послания к Римлянам по верхнему краю картины баталии «Бог по нас, кто на ны?» – Император не просто богоизбран, но и становится проводником его воли в мире дольнем.
Различаются и представления у художников о роли личности в истории. Медный всадник – изображение Петра как человека, без навешивания на него дополнительных смысловых ярлыков – «я не рассматриваю его ни как великого полководца, ни как завоевателя, хотя он, несомненно, был им, [но] как создателя, законодателя, благодетеля своей страны [7, 186]». Хотя портретное сходство было достигнуто вполне для Фальконе куда важнее было показать волевые черты натуры Петра. Поворот головы в три четверти, фактурно очерченная шея, напряжённо поджатые губы, широко открытый направленный взгляд всё во внешности Петра говорит о напряжённой и постоянной борьбе и силе – несмотря на то, что конь встал на дыбы он легко, но уверенно держит его за удила, синонимична и поза коня. Это – гимн Императору-личности, не зависящему, но диктующему законы дольние и горние – «Природа и люди ставили перед ним самые непреодолимые трудности; сила и упорство его гения преодолели их, он рьяно творил добро, которого никто не хотел» [7, 187]. Император у Фальконе – пугающе одинокий герой римской мифологии, покоряющий все возможные вершины и опережающий своё время.
Ломоносовский же Пётр и композиционно и сущностно – полная противоположность. К 20-30 гг. XVIII в. в общественном сознании формируется иное видение власти, как института надличностного, общественного. То же отражается и в системе изображения правителя – теперь это была не иконографическая парсуна, а трёхмерный портрет с новационной гносеологической и аксиологической концепцией и видением зрителя, как точки отсчёта.
Однако, на мозаике царь изображён скорее с позиций нач. XVIII в. Царская фигура только начинает приобретать собственную субъектность, но всё ещё находится в окружении «ближнего круга», он всё ещё не одинокий триумфатор и не аллюзия на святого Георгия. Идейное содержание, функциональная нагрузка и принципы композиции – всё говорит об окружении «первого среди князей». Имперская же идеология отразилась в изображении «служилых людей» и «птенцов гнезда Петрова» на мозаике, как младших фигур на фоне Петра [8]. Сама же мозаика проявление двойной ориентации изобразительной культуры в России с XV по XVIII вв. – провизантийская идеология, запечатлённая западноевропейскими технологиями, «которыя служат ко прославлению военных дел какого либо великаго Государя или знаменитаго народа» [9, 38,153].
Типично для искусства неоклассицизма скульптура симметрична и вписывается в правильные фигуры вылитая из бронзового сплава она кажется лёгкой, динамичной и движущейся не столько за счёт двух видимых точек опоры, сколько из-за установки на пьедестале в наклон слева-направо (как, если бы всадник взбирался на этот валун). На эту же энергичность работает и отсутствие заборов и решёток вокруг памятника, на том настаивал сам автор [7, 186] Тут же нельзя не упомянуть о расположении памятника – отдельно стоящий посреди пустой площади на вздыбленном коне, над Невой [10, 957-958].
По сюжету панно синкретично – это отражается и в структуре, и в структуре авторского описания [11]. Первая, ведущая, доминанта — сам Пётр на боевом коне и обнажённой шпагой. Контрастное цветовое пятно продолжают стоящие за спиной Петра сановники-полководцы А.Д. Меншиков, Б.П. Шереметев и М.М. Голицын и фрагменты русского военного стяга. Примечательна тут их роль – Меньшиков стреляет в шведа, подкравшегося к Петру – идея соборности самодержавия, «Петрова гнезда». В оригинале над всей батальной сценой был изображён апостол Павел с пером руке, а группа Петра находятся его одесную [12, 102,133].
Вторую доминанту первого плана представляют российские солдаты, выгоняющие неприятеля и его знамёна как бы за пределы полотна. Физическим же центром панно стал гренадёр-преображенец, преграждающий царю путь в пекло сражения. Ломоносов намеренно выдвигает низший военный чин. Как последовательный русофил он продвигает идею единства Петра и поданных [13, 34-36]. И делает он это в противовес, сложившимся народным представлениям о Петре, как об антихристе и попирателе веры – «поместив» Петра под благословление апостола Павла в Петропавловском соборе он как бы канонизировал императора, приравнивая его к небесному покровителю. Так, Ломоносов вместе с идеей соборного самодержавия и группового характера русской власти продвигает полубожественную суть Петра-императора.
Общая и судьба художников, для обоих это – лебединая песнь. Ломоносов через год после своего Петра умирает, а Фальконе инвалидизируется и более ничего не создаёт.
Как следует из вышеописанного – произведения эти в равной мере сходны и различны меж собой. Физические различия сторицей покрываются смысловыми общностями. Однако, наша исходная теория об антитезе изображения двух идеи власти подтвердилась. Мы пришли к выводу о том, что европейская космополитичная идея власти построена на индивидуализации и выделении образа монарха из власти. В оппозиции ей стоит национальная русская идея богоизбранности, соборности и праведности правителя – абсолютного носителя идеи власти.
References:
Список использованных литературы и источников
1. Pigler A. Portraying the Dead. // Acta Historiae Artium. Academiae scientiarum Hungaricae. T.4, fascieuli 1-2. Budapest. Maguar tudomainyos academia, 1956. P. 3-74.
2. Святуха О. П. Репрезентация самодержавной власти в русских портретах XVII в.: автореф. дис. кан. ист. наук. – Владивосток, 2002.
3. Полоцкий Симеон. Жезл правления. - Москва: Печатный двор, 1667. – с. 11-14
4. Акишин М.О. "Общее благо" и государев Указ в эпоху Петра Великого // Ленинградский юридический журнал. - С.-Пб., 2010, № 3 (21). - С. 95-117.
5. Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. (далее: ПСЗ) СПб., 1830. Т. II - VII; Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб.; М., 1887 - 2003. Т. I - XIII; Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра Великого. СПб., 1890 - 1901. Т. Т. IV. № 1910
6. Ключевский В. О. Курс русской истории. – СПб., 1904, – 1146 с.
7. Diderot. Œuvres complètes / éd. Assézat et Tourneaux. - Paris: Garnier, 1876. V. XVIII. P. 186.
8. Герцен Н. А. Восприятие образа правителя в русской культуре конца XVII века: автореф. дис. кан. культ., М., 2006, 177 с. URL: https://www.dissercat.com/content/vospriyatie-obraza-pravitelya-v-russkoi-kulture-kontsa-xvii-veka
9. Урванов И. Ф. Краткое руководство к познанию рисования и живописи историческаго рода, основанное на умозрении и опытах. СПб.; Типография Морскаго шляхетнаго кадетскаго корпуса, 1793. – С. 38, 153.
10. Доклад императрице Екатерине II от Сената о месте для постановки монумента императору Петру Великому / Сообщ. Жан-Жанк // Русская старина, 1872. – Т. 5. - № 6. – С. 957-958.
11. Ломоносов М. В. Описание составленной мозаичной картины Полтавския победы к монументу блаженныя памяти государя императора Петра Великого. СПб., 1764. URL: http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo9/LO9-169-.htm
12. Некрасова Е. А. Ломоносов-художник. М.: Искусство, 1988г., – С. 102, 133.
13. Рындина К. А. Творческие новации М. В. Ломоносова и русская культурная самоидентификация // Социально-экономические явления и процессы, 2011. №12 (034)